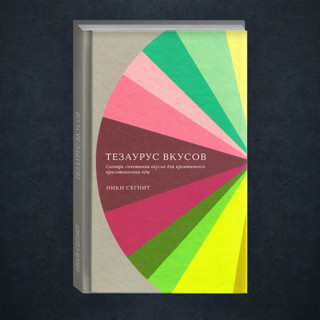Положение еды

- Сергей Леонтьев
За то время, что прошло с тех пор, как огонь превратил природу в культуру, еда нередко становилась предметом религиозной и квазирелигиозной этики и всех разновидностей эстетики — от наскальных рисунков до инстаграма.
Знаменитая максима Брийя-Саварена «Человек есть то, что он ест» верна и в обратном направлении. Еда — это всегда отраженное человеческое, слишком человеческое. Представление о добре и зле, чистом и нечистом, воплощенные в разнокалиберных табу, представление о прекрасном и уродливом, набор технологических возможностей и так далее и тому подобное.
Каждая эпоха смотрела на тарелку сквозь собственную оптику.
Средневековье, не знавшее не то что вилок, но даже толком сковородок и кастрюль, смотрело на еду как на божественную милость. Еда темных веков была чем-то вроде едва оформленной биомассы, прошедшей очищение огнем. Это до сих пор заметно в классических, мало изменившихся рецептах, таких как итальянские, французские и ирландские рагу. Каждое из этих блюд с легкостью войдет в пятерку самых внешне уродливых. Такой сниженный образ еды вполне соответствовал метафизическим запросам и особенностям быта. Полезно, что в рот пролезло. И в низовых гастрономических культурах эта эстетика практически без изменений сохраняется до сих пор. Несмотря на повсеместное распространение вилок и сковородок с антипригарным покрытием.
Эстетизация всех бытовых обстоятельств, начавшаяся в Новое Время в Италии и Франции, появление многочисленных ранее неизвестных продуктов из обеих Америк и Азии, привнесло в процесс приготовления еды интерес к форме, цвету — категориям из мира искусства. Игра ума, которую демонстрировали повара вроде Вателя, с их таксидермическим цирком из фаршированных облепленных перьями лебедей, была еще и философским вызовом смерти. Возвращением исходной формы тому, что умерло, выпотрошено, сварено или запечено: объекту возвращалась его субьектность. В сочетании с посудой, в орнаментальном отношении соперничавшей с оформлением дворцов, это как бы утверждало человека в его роли партнера всевышнего. Пусть человек в отличие от творца не был в силах создать жизнь из глины, он мог проявлять свои демиургические таланты в трансформации того, что уже создано. Это не было системным делом, барочное сознание не очень в ладах с системой.
Для создания порядка нужен другой уровень занудности и легкомыслия одновременно. И масштаб другой. И он появился после французской революции, в наполеоновскую эпоху. У этого масштаба было имя, и имя это было Мари Антуан Карем. Собственно, ресторанная эстетика последующих двух столетий была придумана и подробно описана им в фундаментальных книгах. Все эти архитектурные решения тортов, баланс высоты и объема, стремление к четкой геометрии — все это в международной гастрономической культуре от Карема.
XIX век в истории гастрономии — то время, когда власть над вкусом распределяется между народом и великими поварами. Повара кормили аристократов и представителей богатой буржуазии, то есть в количественном отношении они представляли собой не такой уж большой процент. Но еда тем близка к остальным видам искусств, что движение тенденций там разнонаправленное, они идут не только снизу вверх, но и сверху вниз, при этом те, что идут сверху, часто оказываются более жизнеспособными. Как в архитектуре: можно тысячелетиями жить в хижине, а потом появляется Андреа Палладио, и вокруг сплошной классицизм.
Таким орудием вечности в гастрономии стал Огюст Эскофье, упростивший систему Карема, построивший технологии работы ресторана по принципу бригады, и до сих пор девяносто процентов ресторанов на свете, даже не подозревая об этом, работают по системе Эскофье. Он также систематизировал подачу, введя солярную систему. Основной продукт — например, говяжий медальон — это центр композиции, и гарниры и соусы вкладываются как спутники, кометы и планеты.
Эскофье, так же как и Карем, был сторонником четкой геометрии, отсюда привычка с формам нарезки, точным линиям, окружностям, квадратам, ромбам и так далее.
Это своего рода гуманистический пафос, заложенный в работу кухни еще во времена Возрождения, все тот же человек-творец, придающий безвидному форму.
И по такой системе рестораны работали почти сто лет, пока не появился Ферран Адриа. Он начинал с футуристических экспериментов, эстетики Маринетти, переводом продукта из одного состояния в другое, всех этих эспум, гелей, сфер.
Но в итоге из отрицания реальности, из прометеевского посыла, вернулся к природе. Его коллекция блюд Natura, где продукты обработаны так, что являются улучшенными копиями себя, где лед на тарелке имитирует ледяную корку над горным источником, а клубника выглядит лучше, чем при жизни, потому что была деконструирована и собрана заново в силиконовой форме, — все это одновременно привет Вателю и барочной игре со смыслами, но в то же время это и согласие с тем, что лучшего дизайнер, чем Господь Бог, так и не появилось. Гиперреализм Рене Редзепи в Noma, опыты со съедобной землей из сада Хестона Блюменталя и прочим набором кулинарного модернизма — все это из того ящика Пандоры, который раскрыл Адриа. И который составляет теперь добрую часть трафика инстаграма. Еда для глаз, еда, которую можно вставить в рамку и повесить на стену в качестве импрессионистской картины.
Нечто подобное уже было в истории, в СССР времен «Книги о вкусной и здоровой пище», когда означающее и означаемое вдруг начинали жить параллельной жизнью. Но это нормально, в конце концов, еда никогда не покидала до конца территорию мифа. И, возможно, именно этим объясняется то, что мы до сих пор способны получать от нее удовольствие. Даже если она не похожа на работу Кандинского.